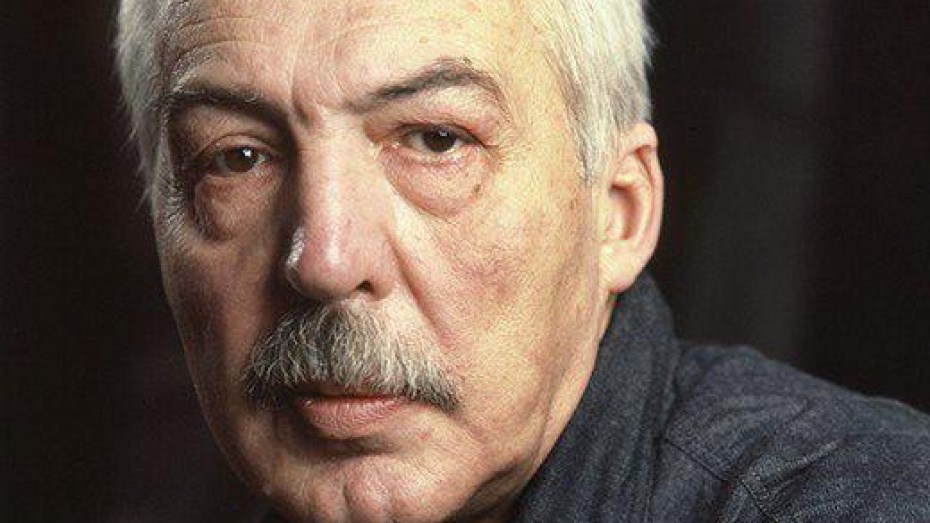 О Битове — значит, сразу обо всём, что для человека, жизнь литературе посвятившего, обладает значением. О языке и о душе. О текстах и о поступках. О Москве и о Питере. Об Империи и о Свободе. О свободе — в первую очередь. Речь даже не о той «тайной свободе», которую некогда Пушкин провозгласил, а нам Блок завещал — точнее, не только о ней. Битов, правда, был одним из самых свободных людей, которых мне довелось знать.
О Битове — значит, сразу обо всём, что для человека, жизнь литературе посвятившего, обладает значением. О языке и о душе. О текстах и о поступках. О Москве и о Питере. Об Империи и о Свободе. О свободе — в первую очередь. Речь даже не о той «тайной свободе», которую некогда Пушкин провозгласил, а нам Блок завещал — точнее, не только о ней. Битов, правда, был одним из самых свободных людей, которых мне довелось знать.
Причина проста: Битов был
Речь, разумеется, о выключении внутреннем: заслуженно обладая славой рафинированного интеллектуала, затворником, обитателем башни из слоновой кости, посвятившим жизнь игре в бисер, Битов явно не был. До того, как обернуться «живым классиком», Андрею Георгиевичу довелось и пережить глухие годы непечатания, и поездить по геологическим экспедициям, и оттянуть солдатскую лямку в стройбате на Севере. Да и в достаточно преклонном возрасте Битов поражал завидной, едва не через край бьющей витальностью. Он умел простодушно,
Битова по умолчанию принимали за «мудреца», но ему мудрость как таковая была скучна, что ли. Живое и непосредственное удовольствие Андрей Георгиевич получал не от безукоризненно выверенной цепочки умозаключений, а от собственной способности глянуть на нечто до неприличия общепринятое с небывалой доселе точки зрения. Со стороны это выглядело как истинное чудо. Не секрет же, что по большей части мы обитаем в мире продуктов чужой умственной деятельности, в мире клише и конвенций. Эдаких культурных чучелок, подменяющих пропущенную через себя, личностную картину мироздания. Граница между автоматически усвоенным чужим мнением и плодами собственных умозаключений не всякому очевидна. Вот в этой пограничной зоне Битов работал неустанно. То ли геологом, то ли кладоискателем, а порой даже сапёром — по сути, всеми ими одновременно.
В повести «Человек в пейзаже» взгляд у Битова становится равноправным соучастником Творения. Именно взгляд человека обладает свойством гармонизировать окружающий пейзаж, открыть в нём красоту и смысл. Это экстраполяция лютой тоски Цветаевой по сотворчеству читателя, которое единственно гарантирует поэзии долгую жизнь. Не говоря о надежде на понимание. Битов попросту распространяет требование сотворчества на взаимоотношения человека со всем Божиим миром. Предстающим как некий текст (ну или холст), порождённый Творцом. Слово «требование» тут вряд ли точно — скорее, дружелюбное, чуточку лукавое приглашение к игре по новым увлекательным правилам. А вдруг впрямь понравится?
В силу этой — достаточно традиционной — установки на восприятие мира как текста, изначально сотворённого Всевышним, беспрерывно истолковываемого, уточняемого, дополняемого и искажаемого нами, Его подмастерьями, Битов и причтён был некогда к обойме отечественного постмодерна. Из желания расставить всё и вся по ранжиру, превратить его самого — так называемого живого классика — в культурное чучелко, пылящееся на библиотечной полке.
Для Битова культура, традиция — это, прежде всего, понимание. То есть бесконечное усложнение картины мира. Отсюда — его поразительные, аналогов в мировой традиции не имеющие пушкинские штудии. От скрупулёзного перебора, медитативного озвучивания черновых вариантов
Я с этим столкнулся, когда привлёк Андрея Георгиевича к участию в фильме, посвящённом взаимоотношениям двух великих Александров Сергеевичей — Пушкина и Грибоедова. Тема волновала его давно, на кухне обговорена была не раз — но Битов не был бы Битовым, озвучивая на камеру домашние заготовки (то, что Ахматова, а за ней и Бродский «пластинками» именовали). Повторять уже сказанное ему становилось попросту неинтересно: всякий раз рассуждение раскручивалось сызнова, следовало
Помню, когда мы рассуждали о проекте «Живая классика», я рассказал Андрею Георгиевичу легенду о святом Франциске, некогда услышанную от Наталии Леонидовны Трауберг. Святой увидел несчастную бездетную женщину, нянчившую вместо ребёнка куклу, взял эту куклу на руки — и та ожила, обернулась настоящим младенцем. Битов довольно захмыкал — видно было, что история ему понравилась. По сути, не только пушкинские штудии, но и весь огромный корпус его эссеистики последней четверти века жизни («Новый Гулливер», «Новый Робинзон», «Битва», прочие вещи, вошедшие в том «Пятое измерение») посвящен именно этому: попытке сызнова наполнить жизнью имена, тексты, явления культуры, для современного читателя практически умершие, прочно перекочевавшие в сферу неактуального.
Боюсь, в этом смысле Битов остаётся одним из самых непрочитанных по сей день наших классиков. Даже «Империю в четырёх измерениях» в полном объёме мало кто осилил. Читать и перечитывать Битова заново, вглядываться в оставленный им культурный пейзаж, всякий раз открывая в нём
Редкая из меморий этих горьких дней обходится без воспоминания о блистательных mot Битова, на которые Андрей Георгиевич впрямь был великий мастер. Внесу посильную лепту в общую копилку. Летом
Время, отпущенное на открытие Пушкинского Конгресса, неумолимо приближалось к концу. Очередь из выступающих сама собой рассосалась. У входов уже появились охранники, которые должны были изгнать стихотворческую братию и расчистить место для депутатов.
Белла окончила чтение, когда до изгнания оставалась ровно одна минута. Её проводили овацией — стихи впрямь были дивные. Но Битову, как председательствующему, предстояло
— Что сказать об Александре Сергеевиче? 200 лет мы на нём ездим, им спасаемся — а он всё как новенький…
Теперь Битов, так непоправимо и горько ставший из живых просто классиком, тоже веками будет как новенький. И на нём отечественная словесность тоже веками ездить будет. В одной упряжке с Александром Сергеевичем, другим Александром Сергеевичем, и ещё многими, многими, многими его собеседниками… Сам Андрей Георгиевич
Те, кто любил живого — от любви уже никуда не денутся. У них просто выбора нет. Но рискну возразить классику: любить будут и те, кто сегодня даже имени Битова не слыхал. Не потому, что он оставил нам так много блистательных, глубоких, умных и праздничных книг — потому что погружение в мир Битова предлагает читателю неимоверно эффективный инструмент внутреннего ускорения, раскрытия собственного творческого потенциала, обретения свободы и гармонии.
Спасибо, что был с нами. Теперь стал, как в пьесе Резо, бабочкой. Неотвязно вокруг головы порхаешь. Скоро совсем улетишь — холодно бабочкам в декабре. В духе, в мысли, в памяти останешься до конца дней наших.
Царствия Небесного.
У Андрея Битова много замечательных наблюдений. Например, об уме, который равен нулю. Там, где неумный человек будет вспоминать и применять к новому поводу уже известные ему вещи, умный останется перед реальностью ни с чем, будет исходить из ничего, начинать с нуля. В своем роде это эхо к аристотелевскому удивлению, с которого начинается мудрость. Не хочу обидеть других наших прозаиков, у них есть другие достоинства, но такой нулевой ум — поэтический и философский — был только у Битова. Из такого ума происходит и особое изящество его письма.
Что, я думаю, знак этого дара или навыка остаться перед реальностью ни с чем, остаться ничем? В ответ ему является нечто Совсем Другое: то, что у Джойса называется «эпифанией», что у Марселя Пруста Мамардашвили называл «растроганностью», tendresse. Некоторое озарение, явление реальности в чудесном свете, явление в себе другого — счастливого — существа: «Что это за существо, я не знаю… оно умирает, когда гармония перестает звучать, возрождается, когда встречает другую гармонию, питается лишь общим или идеей и умирает в частном, но в то время, пока оно существует, его жизнь приносит экстаз и счастье и лишь оно одно должно было писать мои книги»( М. Пруст, «Против Сент-Бева»). Я не могу сейчас привести примеры таких прустовских «эпифаний» у Битова; особенно богаты ими «Уроки Армении». Но всегда, в мерцающей ткани его повествования мы можем ожидать этих световых вспышек смысла.
Андрей Битов написал одну из самых страшных — для меня, во всяком случае, — русских книг ХХ века, «Пушкинский Дом». Историю падения человека, которому известны эти «эпифании», его добровольное приобщение к враждебной мертвой и разрушающей среде. В «Пушкинском Доме» она звучит не как частная история, а как нечто всеобщее: бесславный конец эпохи, которую нельзя назвать славной (она не успела ей стать), но которая хотела войти в круг славных эпох, и знала, что это такое, и шла туда.
* Некролог Ольги Седаковой размещен на сайте «Православие и Мир», публикуется с разрешения автора
11.12.2018, 2637 просмотров.